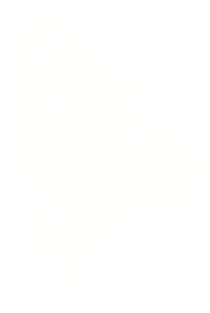Гюльрана рассказывала, не глядя на милостивую султаншу. Ей было стыдно смотреть своей спасительнице в глаза, молодая женщина чувствовала себя до крайности неловко и сковано. Впрочем, госпожа и не требовала от рассказчицы чрезмерной живости - её интересовали подробности случившегося. Хатун чувствовала, что каждое слова из её грустной повести даётся с огромным трудом, язык одеревенел и не шевелился, во рту была такая страшная сушь, будто несчастная провела мучительный месяц в пустыне. Стыд застил глаза Гюльране, ложился на веки тяжёлой пеленой, давил глазницы, покрывая всё непроницаемым мороком. Грешно было вспоминать подробности того, как и когда Гюльрана спозналась с тем юношей, как пускала из-под яшмака несмелые и в тоже время зовущие взгляд, как алели её тонкие, всегда нежно-розовые, а теперь вдруг ставшие такими спелыми, губки. Припоминала Гюльрана и улыбку своего любовника, его ласковые слова, сильные, словно из железа выкованные, пальцы, которыми он сжимал ей запястье, удерживал, не давал уйти. А горше всего было то, что Гюльрана понимала: она и сама нескоро уйдёт - покроет свою голову позором, навек осрамит честное семейство своего неласкового мужа, а не уйдёт, покуда сам не выпроводит за двери. Много было проведено приятных ночей, не раз приходилось влюблённым видеться и днём, крыться от людских пересудов, находить такие места, где их не застиг бы позор. Крыться-то крылись, но их грех всплыл наружу. Муж разгневался так сильно, что чуть не учинил над провинившейся женой самосуд. А дальше - площадь, брань прохожих, угроза страшной расправы, взметнувшаяся из гущи толпы рука, неровный, тёмно-серого цвета булыжник в коричневых грубых пальцах, десятки глаз, преисполненных ненависти и осуждения... Господи, до чего же стыдно было теперь вспоминать всё это. Гюльрана по временам останавливалась, чтобы сглотнуть подступавшие слёзы.
Окончив своё повествование, хатун окончательно поникла, сцепила пальцы в замок, потупила глаза. С минуту в покоях царила оглушающая тишина, которую нарушил короткий всхлип. Это рассказчица не выдержала-таки и дала волю слезам. Она всё ещё не смела взглянуть на добросердечную госпожу, которая вызволила грешницу невзирая на неминуемость суда. Правду сказала султанша: она не кадий, чтобы судить, но помочь она в состоянии. Гюльрана даже догадывалась, чем именно.
"Нет... Не-е-е-ет-нет-нет, не меня... О таком счастье мне даже мечтать зазорно! Кто я, чтобы... Ах, госпожа, пошли Вам Аллах всяческого блага, Вы слишком добры ко мне. А впрочем, может быть, я думаю не о том? Может, султанша сумеет избавить меня от постылого мужа, похлопочет о разводе и выдаст меня за того, кого выбрала бы я сама... О, да это вряд ли. Однако видно же, видно же, что добрая хасеки (или кто она, уж не знаю) держит на уме что-то хорошее для меня."
Совестно было признаваться, но и кривить душой перед столь великодушной женщиной Гюльрана не хотела. Она несколько раз бесшумно вдохнула и выдохнула, собираясь с духом, потом проговорила:
- Это я... я не устояла. Теперь Вы точно отведёте меня на суд, да?
Только теперь Гюльрана нашла в себе силы посмотреть на свою благодетельницу. О, чудо - госпожа не только не сердилась, но даже улыбалась. Значит, расправа по решению кадия может обойти несчастную женщину стороной, а это не могло не радовать.