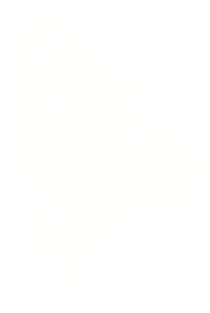Беяз не удержался, закатил глаза, дважды провёл ладонями по лицу и произнёс сквозь зубы молитву, ограждающую от неприятеля и всякого, кто мыслит человеку зло:
- Хасбунал-лааху ва ни'маль вакииль.
Будучи искренне верующим, евнух внутренне поёжился: а вдруг он непроизвольно согрешил перед Творцом, молясь не потому, что рядом находится недруг, а лишь в насмешку сквернавке Кюбре? Да и кто знает, может быть, она ему никакой и не враг, а только невоздержанна на язык... Да, ещё один грех в книге его судьбы, наверное, уже записан. Помолчав немного и отогнав от себя демона злословия, ага сказал:
- Ты и святого до бешенства доведёшь, женщина. Хороша косточка, нечего сказать, пришла и язвит без повода! Фатьма-султан тебя прогонит в один прекрасный день, иншалла!
А вот сейчас надежда на милость Всевышнего была абсолютно искренней и непреложной. Жить под одной крышей со сварливой, склочной, злословящей и издевающейся хатун, да, к тому же, ещё и рыжей, как адские псы, для Беяза стало настоящей пыткой. Нестерпимо ему было каждый день видеть её красивое, с лёгкой зловещинкой в чертах, лицо, слышать её грубоватые окрики и видеть шугающихся в разные стороны служанок. Ведь вроде бы столько лет прожила в Топкапы, всем премудростям обучилась, а не знает, что даже со слугами надо говорить мягко, без надтреснутой и шероховатой древесины в голосе (да, только так и можно было обозвать этот неприятный тембр, что у Кюбры), не употреблять резких и неприятных уху слов. Он, Беяз, человек, который в своё время жил, так сказать, в миру и наслушавшийся много противных голосов и выражений, от которых хотелось убежать на задний двор, попав в окружение Фатьмы-султан, постиг его уклад и свод хороших манер. Но, признаться, и без Кюбры во дворце будет сущая скука: Беязу до безумия нравилось донимать эту ободранную кошку, доводить до бешенства и заставлять браниться, как торговку. Не без удовольствия вспоминал ага, который ещё не утратил чувства юмора и, бывало, шутил очень зло, сговорился с поваром и, когда калфа зашла на кухню (проверить, готова ли баклава для вечерней трапезы), развязал мешок с мукой и - пххххх! Ох, и крику было тогда... И Беяз, и его сообщник, долго не могли опомниться от ядрёной брани калфы. Повар тогда ещё искренне недоумевал, как это женщина, воспитанная в атмосфере гарема, умеет так ругаться, что самая распоследняя фахише заткнула бы уши от стыда... Этот случай стал для всех слуг этого дворца притчей во языцех, и девушки с удовольствием вспоминали подробности недавнего курьёза, перетирали их в пыль и нисколько не уставали обсуждать.
Немножко отойдя сердцем, Беяз заговорил с хатун куда спокойнее, хоть и не без яда:
- Скажи ты мне, ради всех сил небесных, тебя что, из милости сюда взяли? Неужели Афра-хатун никого лучше не нашла? Ай, такая умная, знающая женщина, а кого во дворец отправила, тьфу!
И всегда сдержанный, вежливый и набожный Беяз вдруг от души плюнул себе под ноги. То ли подул ветер Лодос, то ли сам по себе плевок пришёлся не туда, куда следовало бы, только Кюбра подобрала подол платья, отскочила от евнуха, как ошпаренная и взвизгнула так, словно она - облезлая стамбульская кошка, которую загнали на крышу шестеро поджарых трущобных котов-прощелыг. Беяз-ага дал волю смеху. Смеялся он так заразительно, что не замечал, как к нему присоединился женский смех - Кюбра тоже хохотала от всей души.
Что ж, может быть, с ней и можно сдружиться.